
С.Н. Мареев
Принцип системности и диалектика
Принципы материалистической
диалектики как теории познания
Москва, 1984, с. 89-131
1. Вводные замечания
По существу единство диалектики, логики и теории познания марксизма есть высшее осуществление принципа монизма в материалистической диалектике. Только последняя смогла связать воедино такие не только различные, но и противоположные области действительности, как бытие и мышление, над чем так или иначе билась вся предшествующая марксизму философская мысль.
Монизм не новая идея в философии. Как отмечал Г.В.Плеханов, «наиболее последовательные и наиболее глубокие мыслители всегда склонялись к монизму, т.е. к объяснению явлений с помощью какого-нибудь одного основного принципа» 1. Но только в марксистской философии эта идея доведена до практики научного познания, не только теоретически, но и практически возведена в принцип его методологии и логики. Тем самым диалектико-материалистическая философия обосновывает также необходимость применения принципа монизма не только в области философских идей, но и в области всякой другой науки.
Монизм в философии выражает монизм мышления, к которому оно всегда сознательно или бессознательно стремится. Это объективный закон мышления и его специфика. «Мыслить, — писал Гегель, — значит, собственно говоря, постигать и выражать многообразие в единстве ... Мышление состоит в том, чтобы все многообразное приводить в единство» 2. И высшая форма развития человеческого мышления — наука — связана с последовательным проведением принципа монизма.
«В целом ряде научных дисциплин вновь встает вопрос, поставленный некогда К. Марксом в ходе анализа экономических отношений: как развивать науку в ее собственной, внутренне присущей ей связи и что собой представляет эта связь? Как отделить ту специфическую область, в которой данная наука может и должна высказывать компетентные суждения о фактах, от области, в которой ее суждения могут только запутать суть дела? Какого рода факты могут, а какого не могут быть поставлены во взаимную связь при систематическом развитии теории, каковы условия и логические критерии этого сопоставления» 3.
Все прогрессивные тенденции в истории философии так или иначе стремились к целостному мировоззрению, а последнее всегда требует четкого определения границ отдельных наук, отдельных отраслей знания и духовной деятельности людей. «Смешение границ различных наук, — писал в свое время Кант, — ведет не к расширению этих наук, а к искажению их» 4. А четкое определение границ той или иной науки, ее предмета невозможно без последовательного сведения определенного многообразия к единству.
Но монизм — это не только характеристика целостного мировоззрения, это, как было уже сказано, необходимый способ существования науки. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы методологически обосновать монистический принцип как необходимый принцип всякой науки, его необходимое и всеобщее значение. А обоснование монизма возможно только при систематическом развитии науки. Иначе говоря, монизм может быть реализован только в системе теоретических определений предмета. Поэтому необходимость монизма предполагает необходимость системной организации науки.
2. Сущность и существование, сущность как системное качество
«...Если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, – часто любил повторять Маркс, — то всякая наука была бы излишня...» 5 Наука, таким образом, необходима только там, где нас интересует существенное, не совпадающее с обманчивой видимостью вещей.
Сущность, которая интересует науку, есть системное, то есть проявляющееся в отношении к другому (рефлексивное, как выражается Гегель) качество, и отражена она, следовательно, может быть только в системе «рефлектирующих» друг в друга понятий. Человек в своем непосредственном наличном бытии в качестве человеческого индивида не обнаруживает своей сущности, он обнаруживает ее только тогда, когда он относится к другому человеку и это отношение может проявляться самым различным образом. Поэтому Маркс и определял сущность человека как «совокупность всех общественных отношений» 6. В оригинале буквально: «ансамбль всех общественных отношений» 7, и это вернее передает суть дела: человеческие отношения представляют собой не просто некоторую неупорядоченную «совокупность», а вполне определенную систему, «ансамбль» отношений, где есть своя координация и субординация, свои «уровни» и свои сферы и т.д.
Что же означает с точки зрения такого понимания сущности ее научное определение? Оно и означает построение или, лучше, развитие, разворачивание, рациональное воспроизведение той системы отношений, в которой и благодаря которой существует данная сущность. Последняя ничего иного собой и не представляет, как именно эту целостность и целокупность отношений. Все мистификации категории сущности, которые она претерпевала в различных системах идеализма от Платона до Гегеля, связаны именно с этим «чувственно-сверхчувственным» способом ее объективного существования.
Идеализм играл на существенных, слабостях эмпиризма, свойственного всем формам домарксовского материализма, который держался принципа чувственной достоверности и потому не мог отличить сущности от существования. Он пытался обнаружить существенное в результате абстракции путем выделения некоторого абстракта, присущего некоторому множеству, «совокупности» отдельных индивидов, и последовательно приходил к отрицанию объективного значения категории общности, что в особенности проявилось в позитивизме. Между тем путь к сущности, а тем самым и к истине лежит на пути конкретизации, «срастания» отдельных моментов, выражаемых и фиксируемых с помощью абстракции в систему научных определений.
А потому вовсе не случайно исторически сложилось так, что «системная» сторона человеческого познания, как и деятельная его сторона, развивалась идеализмом. Гегель, например, ставя перед собой задачу превращения философии в науку, отождествляет последнюю с системой. «Истинной формой, в которой существует истина, — писал он, — может быть лишь научная система ее» 8.
«Системные» представления развивались и раньше в работах Канта, Шеллинга и в особенности Фихте. Подробно мы не будем на этом останавливаться, отметим только, что ограничивать родословную системного подхода пределами нашего XX в., как это делает, например, А. Рапопорт 9, – значит просто или не знать истории вопроса, или сознательно ее игнорировать.
Что же означает «истинная форма существования истины»? Не является ли это выражение пустой тавтологией или проявлением специфического «гегельянства»?
«Расшифровку» этого положения мы находим у К. Маркса, который дает этому положению ясное выражение. «Не только результат исследования, — пишет он, — но и ведущий к нему путь должен быть истинным. Исследование истины само должно быть истинно, истинное исследование — это развернутая истина, разъединенные звенья которой соединяются в конечном итоге» 10.
«Развернутая истина» — это и есть научная система или истинная форма, в которой существует истина, потому что «суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением» 11.
Здесь коренным образом меняется традиционное представление эмпиризма об истине как соответствии наших субъективных представлений непосредственно данным фактам. В том-то и дело, что возможны такие случаи, когда ни отдельно взятое субъективное представление, ни их простая сумма не соответствуют объективной сути дела, хотя они и соответствуют отдельным внешним проявлениям этой сути, отдельным фактам. Дело в том, что сами факты могут не соответствовать своей собственной сущности.
Маркс отмечал, например, что неразвитые формы политической экономии как науки соответствовали неразвитым, «неистинным» формам буржуазного общества. Капитал в этих формах еще не соответствовал своему понятию. Политическая экономия в ее неразвитых формах, таким образом, вполне соответствовала фактам, но она не подвергала критике сами факты, не шла дальше фактов.
Несостоятельность эмпиризма заключается в том, что он не идет и не желает идти дальше эмпирического факта. Однако не в фактах самих по себе истина заключается, а в их взаимной связи. И не в простой связи, а в необходимой. А то, что необходимая связь даже таких простых фактов, как свет солнца и нагревание камня, далеко не очевидна, хорошо показал уже Юм.
Авторитарно-эмпирическое мышление останавливается как раз там, где должно начаться действительное мышление, а действительное мышление должно приводить во взаимную связь факты и тем самым выявлять их действительную сущность. В этом и состоит достоинство человеческого мышления в отличие от мышления животного, которое во всех случаях остается «эмпириком», держится только факта и не идет дальше. «Животные — чистые эмпирики и руководствуются только примерами» 12.
Итак, системная организация научного знания, научная система, необходима для того, чтобы постигать и выражать истину. Система научных знаний есть развернутая истина.
Но всякая ли система обязательно выражает и представляет объективную истину? Отнюдь не всякая.
Рудин у Тургенева в споре с Пигасовым, который хочет держаться только фактов, только чувственной достоверности, указывает ему на тот факт, что чувства могут нас обманывать; например, чувство нам говорит, что Солнце вокруг Земли ходит, а Коперник доказал обратное.
Ежедневно люди наблюдают, что Солнце утром «всходит» на востоке и, проделав свой обычный дневной путь, «заходит» на западе. И люди долгое время не испытывали ни малейшего сомнения в том, что это так и есть «на самом деле», то есть что наша Земля неподвижна, а Солнце и другие небесные тела некоторым образом обращаются вокруг нашей неподвижной Земли. Теперь каждый школьник знает, что «на самом деле» все не так, а наоборот, в пределах нашей солнечной системы Солнце неподвижно, а наша Земля среди прочих планет этой системы обращается вокруг Солнца.
Известно, что первое «на самом деле» было реализовано в системе Птолемея, второе — в системе Коперника. И если вторая истина, то первая...
Не будем делать поспешных заключений, не будем говорить, что система Птолемея полностью ложна, скажем лучше, что она просто недостаточна для выражения всей истины. Ведь не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением. Но разве система Птолемея не была существенным этапом на пути становления системы Коперника?
Именно таковой она и была. Она была не просто существенным, а она была необходимым этапом на пути становления действительно соответствующей сути дела системы Коперника.
Таким образом, существует по крайней мере два рода научных систем, которые можно (было бы назвать эмпирическими и теоретическими системами, хотя это еще не до конца выражает все существо дела. А существо дела составляет их субординация и способ перехода от первых ко вторым.
3. Системный релятивизм и диалектико-материалистический монизм
Если существует определенная последовательность ступеней системной организации знания, то сама эта последовательность, если она регулярна и необходима, представляет собой определенную иерархию и системно организована. В качестве таковой она уже является предметом логики и теории познания.
Развитие человеческого познания Гегель охарактеризовал как восходящее движение от содержания к содержанию. «Это движение вперед, — писал он, — определяет себя прежде всего таким образом, что оно начинает с простых определенностей и что следующие за ними определенности становятся все богаче и конкретнее. Ибо результат содержит свое начало, и движение этого начала обогатило его новой определенностью. Всеобщее составляет основу, поэтому движение вперед не следует принимать за процесс, протекающий от чего-то иного к чему-то иному. В абсолютном методе понятие сохраняется в своем инобытии, всеобщее — в своем обособлении, в суждении и реальности; на каждой ступени дальнейшего определения всеобщее возвышает, всю массу своего предыдущего содержания и не только ничего не теряет от своего диалектического движения вперед, не только ничего не оставляет позади себя, но несет с собой все приобретенное и обогащается и сгущается внутри себя» 13.
Если вернуться к нашему примеру с системами Птолемея и Коперника, то переход от первой ко второй не оставляет первую «позади себя», а несет ее с собой. Поэтому вторая конкретнее первой, она «плотнее» ее, ибо содержит в себе не только ее, но и ее иное и противоположное. Ведь она не только описывает действительное положение, но и объясняет видимое движение планет на видимом небосводе, от которого отправлялась система Птолемея. Здесь разница такая же, как разница между фактом видимого излома чайной ложки в стакане с чаем и тем же фактом, осмысленным теоретически.
И здесь имеет место не просто количественная, а коренная качественная разница: когда мы говорим «система Коперника», то мы можем иметь в виду и теорию, созданную великим польским астрономом, и саму солнечную систему, как она существовала до и независимо от чьих бы то ни было теоретических представлений о ней. Мы, правда, различаем то и другое, но существенной разницы между тем и другим по содержанию мы совершенно не замечаем: система Коперника, как теория Коперника, – это и есть ставшая «прозрачной» для нас солнечная система. Это не один из равновозможных вариантов системного представления нашей солнечной системы, а сама эта система, развернувшаяся перед нами благодаря гению Коперника.
Другое дело — система Птолемея. Это именно «проекция» солнечной системы, и именно та «проекция», в которой солнечная система дана земному наблюдателю. Здесь мы ясно различаем по содержанию систему как «модель», «проекцию», представление, теорию и т.д. и оригинал — объективно существующую систему.
Поскольку под «системой» в настоящее время чаще всего и понимают такого рода представление объекта, когда оно только «проекция», «модель» и т.д., совпадающее с оригиналом только в «определенном отношении», то иногда считается, что все зависит от того, в какой системе объект рассматривать, какую выбрать «систему отсчета». Иначе говоря, иметь объективную картину действительности, оказывается, вообще нельзя. А если можно, то только как результат некоторой интеграции, суммирования возможно большего числа «проекций» и «моделей». Привилегированной системы нет, как нет привилегированной системы отсчета, — вот конечный вывод подобного рода рассуждений. А это и есть «системный» релятивизм.
Иначе дело выглядит, если обратиться к нашему примеру перехода от птолемеевских к коперниканским представлениям. Здесь движение происходит не от «проекции» к «проекции», не от иного к иному, а оно происходит в полном согласии с тем образом диалектического движения, который мы приводили. При этом «абсолютном методе», как его называет Гегель, результат содержит свое начало. Здесь дело происходит как в случае катящегося снежного кома, который «не только ничего не оставляет позади себя, но несет с собой всё приобретенное и обогащается и сгущается внутри себя». Это не просто экстенсивное, но и интенсивное движение одновременно, не только вширь, но и вглубь. В коперниковской системе содержание птолемеевской системы не было просто отброшено, а оно «сгустилось и обогатилось внутри себя». Оно оказалось «снятым», т. с. подвергнутым отрицанию и одновременно поднятым на более высокую ступень.
«Наука всегда оказывается неправа, — сказал Бернард Шоу на банкете в честь Эйнштейна в 1930 г. — Коперник доказал, что Птолемей был неправ... Галилей доказал, что Аристотель был неправ... Ньютоновская Вселенная пала замертво, а на ее месте оказалась Вселенная Эйнштейна». Но если учесть, что с каждым шагом, подобно одному из названных Шоу, происходит «обогащение», и научное знание становится все более «плотным», то можно с полным правом утверждать обратное тому, что говорил Шоу, — наука всегда права, но права в определенных пределах.
И Птолемей, и Аристотель, и Ньютон были правы в определенных пределах, но определены эти пределы были позже. Вместе с тем был определен относительный характер теоретических представлений, развитых названными мыслителями, и этим самым оказался снятым релятивизм: ведь мы можем утверждать об относительном характере чего-то только тогда, когда мы знаем, относительно чего данное представление относительно.
На чем основан системный релятивизм? Он основан на том, что мы не можем, как иногда утверждают, и в определенных пределах правильно утверждают, сравнивать непосредственно некоторую систему и саму реальность, для этого мы должны встать в некоторую «третью» позицию. А для этого мы должны построить более широкую систему теоретических представлений, в которой оказались бы сравнимыми первая система и сама реальность. Но для того чтобы эта третья система могла нам служить надежным критерием для сравнения первой системы с реальностью, она сама должна быть сопоставлена с этой реальностью, а для этого должна быть построена четвертая система и так далее до бесконечности. Примерно таким образом представляет дело Л.Н. Волгин в своей книге «Принцип согласованного оптимума» 14, и потому единственный; выход он видит в практике 15.
Но уповать на практику в данном случае — это все равно как уповать на то, что типографский шрифт в ящике, если его очень долго трясти, сам собой сложится в текст «Войны и мира» Льва Толстого. «...Критерий практики, — писал В.И. Ленин, — никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления» 16. Система Птолемея была порождена и подтверждалась исторически ограниченной практикой своего времени. Теория поэтому не может рассматриваться как механическое дополнение к практике, как нечто «иное». Только практика, взятая в ее исторической тенденции, в целом, может быть падежным критерием объективной истинности наших теоретических представлений.
Именно такого рода единство мы и имеем в случае с системой Коперника. Ведь практика-то наша, пока мы живем на Земле, была и остается птолемеевской: современный штурман видит то же самое небо, которое наблюдал Птолемей, а потому он и должен любые расчеты, произведенные, так сказать, в «системе» Коперника, переводить затем в «систему» Птолемея, чтобы практически ориентироваться в открытом море. И только благодаря этому можно сравнивать систему Коперника с «оригиналом» — это сравнение возможно только через ее собственную противоположность, она содержит «третье» в себе самой.
Ни в каком другом случае нет и не может быть «третьей» позиции по отношению к предмету и знанию об этом предмете, если это знание в себе не раздвоено на себя и свою собственную противоположность, если оно просто служит практике, является ее простым удвоением и не объясняет ограниченного характера нашей земной практики. Представление об этой позиции просто удваивает наше знание и одно считает предметом, другое — знанием. Попробуйте занять «третью» позицию по отношению к теории Коперника и самой гелиоцентрической системе. Этого у вас не получится, потому что то, что вы будете считать в данном случае предметом, будет просто моделью, построенной согласно этой теории в вашем воображении. Ведь вы воочию-то этой системы никогда не видели. Правда, при состоянии современной техники в принципе возможно перенести наблюдателя в такую точку космического пространства, из которой наша солнечная система будет выглядеть именно так, как ее представлял себе Коперник. Но это возможно только сегодня. И вообще принципиальная возможность эмпирической проверки в данном случае является недостатком нашего примера. А представьте себе такую теорию, как, например, различные системы неевклидовой геометрии, некоторые другие примеры подобного рода...
Итак, системная завершенность, целостность основываются на том, что системное движение замыкается на свое собственное начало. Это «замыкание», а тем самым целостность и завершенность Гегель считал преимуществом философии. «Философия, — писал он, — образует круг: у нее есть первое непосредственное положение, не доказанное, но являющееся результатом, так как вообще она должна с чего-либо начать. Но то, чем философия начинает, есть лишь относительно непосредственное, так как оно должно явиться результатом в другом конечном пункте. Она — цепь, не висящая в воздухе, не непосредственно начинающаяся, а круглящаяся» 17.
Но это отнюдь не преимущество одной только философии. Философия, и так считал именно Гегель, выражает глубинную сущность всякой науки. Но во времена Гегеля для всех наук это было только лишь идеалом, к которому необходимо стремиться: «цепь» еще не закруглилась и беспомощно висела в воздухе. Однако развитие науки после Гегеля показало, что оно происходит в точном соответствии с тем идеальным образом развивающегося человеческого познания, который дает нам диалектика.
Геометрия Евклида, например, брала свои основоположения — две прямые могут пересекаться только в одной точке; через точку вне прямой можно провести только одну прямую, параллельную данной, и т.д. — как непосредственные и не доказанные, которые и нельзя доказать, потому что всякое доказательство предполагает какие-то основоположения. И если бы Евклид захотел доказать те основоположения, которые он взял в качестве непосредственных, он должен был бы предположить какие-то другие непосредственные основоположения.
История показала, что его непосредственные основоположения только относительно непосредственные, на самом деле они очень даже опосредствованные, и опосредствованы они условиями опять-таки земными, в которых живет и действует человек, условиями относительно небольших масс и относительно небольших скоростей, которые и обусловливают, опосредствуют именно такую геометрию пространства. Поэтому, кстати, в размышлениях о том, что такое человеческое мышление, что такое наука, каковы ее методы и т.д., нельзя брать одного мыслящего индивида, одну научную теорию в ее завершенности или только на одном из исторических этапов ее развития, а необходимо брать Мышление (с большой буквы) всего человечества в его историческом прогрессивном развитии в тесной связи с исторически прогрессирующей человеческой практикой. Но коли такой урок историей познания нам уже преподан, то мы должны проявлять осторожность и осмотрительность, прежде чем утверждать что-либо как абсолютно непосредственное. Диалектика потому так высоко и ценит историю, что она сама явилась ее итогом и обобщением.
То, что основоположения евклидовой геометрии только относительно непосредственны, было доказано тем, что были построены системы геометрии, основанные на принципе, противоположном принципу евклидовой геометрии, и включающие в себя евклидову геометрию в качестве частного случая. Но тем самым непосредственное опосредуется, а опосредствующее обосновывается практически своей собственной противоположностью. Здесь, как и в случае с коперниканским и птолемеевским представлениями, неевклидовские представления должны каждый раз «переводиться» на язык евклидовых представлений, чтобы они могли быть использованы для практических нужд, для практических расчетов и измерений, а евклидовы представления — это и есть завершенная система геометрических представлений землемера, — морехода, архитектора, инженера и т.д. А потому евклидова геометрия — это не нечто противоположное практике, а всего лишь ее удвоение, прямое продолжение.
«Что значит, — писал Эйнштейн, — когда утверждают, что наше трехмерное пространство имеет евклидов характер? Смысл этого в том, что все логически доказанные положения евклидовой геометрии могут быть точно подтверждены действительным экспериментом. С помощью твердых тел или световых лучей мы можем построить объекты, соответствующие идеализированным объектам евклидовой геометрии.
Ребро линейки или световой луч соответствуют прямой. Сумма углов треугольника, построенного из тонких жестких стержней, равна 180 градусам. Отношение радиусов двух концентрических окружностей, построенных из топкой упругой проволоки, равно отношению длин окружностей. Истолкованная таким образом евклидова геометрия становится. главой физики, хотя и очень простой ее главой» 18.
Если для всякого объекта евклидовой геометрии может быть построена физическая модель, то это и говорит о том, что ее объекты — это всего лишь удвоение реальных физических объектов, геометрический цилиндр — это всего лишь «идеальная» цилиндрическая колонна, мельничный жернов и т.д., с которыми имеет дело человек в своей хозяйственной практической жизни. Здесь еще нет перехода в теорию как во что-то иное и противоположное, хотя физическая геометрия является необходимым историческим этапом становления геометрии.
«Считают, — пишет американский логик и математик X. Карри, – что геометрия началась с установления правил измерения, найденных еще учеными Древнего Египта. Геометрия в этом смысле является частью физики. Но наряду с ней есть и геометрия как часть математики, в которой рассматриваются математические системы, связанные определенным образом с изучением пространства» 19.
Что значит, математические системы геометрии связаны определенным образом с изучением пространства? Это и означает прежде всего: не непосредственным образом. А это, в свою очередь, означает, что математическая геометрия должна содержать в себе как минимум хотя бы одно положение, которое в принципе не может быть непосредственно физически интерпретировано, которое должно существенным образом отличаться от основоположений физической геометрии.
Но существенное отличие — это всегда противоположность. Следовательно, монистическая геометрия, т.е. геометрия, имеющая свое собственное логическое пространство, должна схватывать собой противоположные принципы в единстве. А единство противоположностей есть противоречие, стало быть, монистическая система имеет своим основанием противоречие, А и не‑А. Это и будет истинным определением системы.
Но это уже результат некоторого исторического и логического развития. Если снова вернуться к примеру с системами политической экономии, то это уже система «Капитала». Однако капиталистический способ производства не есть в своей сущности то, что он представляет собой в своей непосредственности, в своем наличном бытии, как сказал бы Гегель. Истина есть единство наличного бытия и понятия. А в определение понятия капитала должен войти весь процесс его исторического становления и развития. В представление о капитале должно войти понимание, чтобы оно стало истинным, благодаря чему оно и становится понятием. А понимание в данном случае заключается только в том, что мы должны знать весь процесс развития простого товарного производства в капитале. В этом и состоит объективный смысл диалектического положения о том, что истина есть процесс.
Потому и относительно системы не является истинным ни ее первое, ни ее последнее определение, а истинным ее определением является весь процесс перехода от первого к последнему, включая и то и другое.
Вот теперь и должна проявиться существенная разница между системами типа евклидовой и системами типа неевклидовой геометрий. Если логический образ первой А, то образ второй — А и не‑А, А и его отрицание; вторая содержит в себе принцип первой и отрицает его. И отсюда должно быть понятным, что наука не только «всегда неправа», но и то, что это не труд Сизифа, что камень, поднятый на вершину горы Ньютоном, Эйнштейн не низвергает снова к ее подножию, а поднимает его на вершину еще более высокую. А для этого надо себе очень ясно представлять логическую структуру систем, имеющих в основании противоречие А и не‑А.
Есть представление, идущее из формальной логики. Если дать графическое представление А в виде круга, то что будет собой представлять отрицание этого А ? Всё остальное — отвечает эта логика. Графически это можно изобразить так:
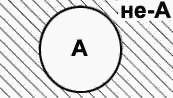
Что дают А и не‑А вместе? Весь Универсум – отвечает логика.
Значит, А и не‑А вместе исчерпывают весь Универсум. В данном случае это некоторый неопределенный, формальный Универсум, потому что А берется как неопределенное и формальное. Ну а если А — это определенное A ? Допустим, это постулат о параллельных Евклида. Тогда и отрицание этого А будет определенным. Что же тогда будут представлять собой вместе определения А и не‑А ? Тоже некоторый универсум, только не формальный, a универсум всех определений пространства. Наука становится универсальной тогда, когда она схватывает и постигает в единстве противоположные определения некоторой действительности, некоторой конкретности. Целостность и завершенность подобного рода систем Гегель и Маркс характеризовали как тотальность. Тотальность не может быть подвергнута отрицанию в логическом смысле, она содержит свое собственное отрицание внутри себя, она его «интегрирует» внутри себя, а потому и не боится его, как не боится кори человек, уже раз ею переболевший.
Теперь должна стать понятной разница между системами типа геометрии Евклида, системы Птолемея и т.д. и системами типа геометрии Лобачевского, системы Коперника и т.д. Первые являются определенными «проекциями», «срезами» определенной тотальности или конкретности, вторые описывают саму тотальность и саму конкретность, они сами поэтому конкретны, тогда как первые абстрактны, односторонни.
В связи с этим намечается новая дихотомия систем, по существу совпадающая с уже проведенным подразделением на эмпирические и теоретические, на системы абстрактные и конкретные. Причем конкретность в данном случае совпадает со свойством органичности. Согласно Марксу, в любой органической системе «каждое положенное есть вместе с тем и предпосылка» 20. В этом смысле она противоречива и замкнута в себе.
Органическая система уже не может быть подвергнута отрицанию в том же смысле, в каком она сама является отрицанием абстрактной или эмпирической системы. По отношению к органической системе отрицание может быть только деструктивным. Ведь принципом органической системы является тождество противоположностей, противоречие А и не‑А. Отрицание этого принципа дает нам А или не‑А, то есть это отрицание попросту «разваливает» наш принцип на его составляющие и возвращает нас, с одной стороны, к принципу абстрактной системы, к равному самому себе A, a с другой, — оно является простой тавтологией, потому что не‑А содержит в себе себя и свое иное, не‑А и А. Альтюссер поэтому не случайно связывает представление о противоречии с представлением о «сверхдетерминации», то есть неуязвимости определенного рода системной организации.
Что же, выходит, мы можем достигать абсолютной истины? Да, можем, но... в пределах совершенно определенного качества, определенного логического пространства, определенной конкретности, а не всего Универсума. Это во-первых. А во-вторых, надо помнить о том, что речь идет о сущности, а не обо всем многообразии форм ее проявления. Многообразие форм проявления жизни, прошлых, настоящих, будущих, на нашей Земле, на других планетах бесконечно, по сущность живого при этом остается одной и той же.
И далее, абсолютная истина — это всего лишь противоположность относительной, которая последней предполагается: относительно чего данная истина относительна. И до тех пор пока мы не знаем того, относительно чего то или иное наше знание неполно, абстрактно и т.д., мы не можем сказать, что оно относительно истинно. Ведь Евклидова система до появления неевклидовых считалась не относительно, а абсолютно истинной, даже настолько, что Кант приводил этот факт в обоснование априорного (абсолютного) характера форм нашего созерцания явлений в пространстве. Система Птолемея тоже считалась абсолютно, а не относительно истинной даже и после появления системы Коперника. О том, что это всё относительные истины, люди узнали только тогда, когда они узнали абсолютную истину. Абсолютную только потому, что она явилась результатом отрицания относительной истины, ведь относительная и абсолютная истины — противоположности.
Так как человеческое познание носит системный и органический характер, его «траекторию» нельзя изобразить в виде простой прямой линии — она представляет собой ряд кругов. «Познание человека, — писал Ленин, — не есть (respective не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую линию, которая (если за деревьями не видеть леса) ведет тогда в болото, в поповщину (где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов). Прямолинейность и односторонность, деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная слепота voila — гносеологические корни идеализма» 21.
И догматизм, знающий только абсолютную истину, и релятивизм, знающий только относительную истину, — всего лишь определенные «проекции» спиралевидной кривой человеческого познания.
В истории философии все возможные концепции человеческого познания так или иначе оказываются возможными проекциями — причем, как правило, с определенной аберрацией — спирали человеческого познания. Но самое интересное состоит в том, что историческая последовательность этих концепций так или иначе соответствует последовательности логических элементов, из которых строится истинная «фигура» логики человеческого познания. Причем в историческом хаосе философских систем, школ, направлений и т.д. обнаруживается вполне определенная последовательность, и логика этой последовательности проясняется только по прошествии определенного периода, когда «кривая» человеческого познания уже достаточно четко прорисовалась.
Логика исторического развития человеческого познания совпадает, таким образом, с логикой построения научной теории, а способ построения последней совпадает в конечном счете с существенными характеристиками самого объекта, самой действительности. Поэтому диалектика, являющаяся высшим способом теоретического освоения действительности, есть одновременно и теория познания, и теория развития самой объективной действительности. Поэтому также и тот способ, каким знание и познание человека организуется в систему, тот же самый, каким организована сама действительность.
Иными словами, нас могут и должны интересовать не просто разные способы системой организации, как-то: планетарная система, система жизнеобеспечения космического корабля или кровеносная система животного, — общелогический анализ не может заменить анализа конкретно-научного, «логика дела» не может быть без остатка «перекрыта» «делом логики», — а нас могут и должны интересовать разные принципы подхода к изучению той или иной системной организации реальной действительности. А таких принципов, как выяснилось предварительно, мы имеем два — это принцип формального тождества А = А и принцип противоречия А и не‑A, иными словами, принцип метафизики и принцип диалектики.
«Всеобщая скромность духа, — писал К. Маркс, — это разум, та универсальная независимость мысли, которая относится ко всякой вещи так, как того требует сущность самой вещи» 22. Иногда независимость мысли понимается так, что следует твердо держаться «собственных» убеждений. Но такая «независимость» очень легко оборачивается простым упрямством, если право на собственное мнение, собственные принципы ставится выше «права» самого объекта. И тогда такая «независимая» мысль оказывается в рабской зависимости у обманчивой видимости вещей.
Действительная универсальная независимость мысли заключается в том, чтобы уметь подчинить себя целиком сущности самой вещи. А сущность самой вещи и способ ее проявления непосредственно не совпадают, вследствие чего научные истины всегда парадоксальны, если судить на основании повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей» 23, то истинная независимость мысли, «всеобщая скромность духа» означают умение отказаться от собственных привычных представлений и собственных мнений, которых у каждого человека больше чем достаточно, во имя истины, во имя «прав» самого объекта. А это и означает уметь уловить диалектическое противоречие, которое у мышления, находящегося в плену обыденных представлений, вызывает часто открытую враждебность.
Если мышление не способно уловить диалектическое противоречие, то оно никогда не достигает подлинного монизма, систематической последовательности, как это случилось с буржуазной политической экономией, в системе которой образовались зияющие «трещины» именно там, где она в лице своих вульгарных представителей пыталась формально согласовать противоположные и противоречащие друг другу положения и, таким образом, избавиться от противоречия. Именно в этом заключается основной пафос критики К. Марксом вульгарной политической экономии.
Таким образом, до тех пор пока противоположности не синтезированы в составе единой теории, единой монистической системы, системный релятивизм до конца не преодолевается: тогда возможны по крайней мере две теоретические системы, реализующие противоположные принципы. Системная организация знания предполагается диалектикой как логикой и теорией познания марксизма с ее принципом монизма. И главный вопрос диалектики системного мышления состоит в том, чтобы показать, на каких путях достигается систематическая организация человеческого знания и познания.
4. Логика системного движения и «чувства-теоретики»
Логика, как считал Гегель, есть наука не непосредственно о вещах, а о вещах, постигаемых в мыслях; хотя определения самих вещей по необходимости входят в логику, но не всякие определения, а всеобщие определения. Когда мы говорим о логике системного познания, то нас должны интересовать не объективно сущие системы непосредственно, а способ постижения системной организации действительности. При этом, разумеется, мы не можем миновать всеобщих определений системной организации действительности, но они могут нас в рамках логики интересовать лишь постольку, поскольку мышление, постигающее системную организацию действительности, само должно быть системно организовано.
Несмотря на всю очевидность того положения, что человеческое мышление должно быть системно организовано, могут быть принципиально различные, и даже противоположные, ответы на вопрос, почему оно должно быть системно организовано. «Системы всюду» — так назвал первую главу своей известной работы «Общая теория систем» Людвиг фон Берталанфи, считающийся одним из основоположников так называемого «системного движения». И это должно, судя по всему, служить ответом на поставленный вопрос. Действительно, если посмотреть вокруг, то и органическая жизнь, и человеческое общество, и Вселенная — все предстанет перед нами как совокупность системных организаций.
Но такой ответ, если вдуматься, совершенно не может нас удовлетворить, что лишний раз доказывает, что в науке ни в коем случае нельзя руководствоваться простой очевидностью. То, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, тоже было когда-то очевидным. Ведь очевидное лежит всегда в области явлений, это то, что мы видим очами. А сущность и явление непосредственно не совпадают, и то, что мы принимаем за очевидное, часто оказывается просто видимостью.
Конкретные причины, по которым нас не может удовлетворить ответ, о котором шла речь, суть следующие. Во-первых, никакое простое индуктивное обобщение не может быть достоверным. Что значит «системы всюду»? Ведь можно указать массу случаев, когда нет не только никакой системы, но царит как раз полнейшая бессистемность.
Внешне отдельные факты общественной жизни, например, кажутся рассеянными и лишенными всякой необходимой связи. «Но этот кишмя кишащий произвол, — пишет Гегель, — порождает из себя всеобщие определения, и факты, кажущиеся рассеянными... управляются необходимостью... Отыскивание здесь этой необходимости есть задача политической экономии, науки, которая делает честь мысли, потому что она, имея перед собой массу случайностей, отыскивает их законы. Интересно видеть, как все зависимости оказывают здесь обратное действие, как особенные сферы группируются, влияют на другие сферы и испытывают от них содействие себе или помеху. Эта взаимная связь, в существование которой сначала не верится, потому что кажется, будто все здесь предоставлено произволу отдельного индивидуума, замечательна главным образом тем — и сходна в этом с планетной системой, — что она являет глазу лишь неправильные движения, и все же можно познать ее законы» 24.
Относительно человеческого общества многие буржуазные философы до сих пор держатся того мнения, что оно представляет собой не более, чем «лес», а человеческая история лишь ряд «неправильных» движений. Заслуга в том, что за «неправильным движением» человеческой истории было открыто «правильное» ее движение, принадлежит, как известно, К. Марксу, хотя к этому уже вела домарксовская история научной и философской мысли. И если мы сегодня говорим, что «системы всюду», то только потому, что знаем об этом: не случайно поэтому, что в полный голос заговорили об этом в конце XIX — начале XX столетия, когда науке в результате длительной истории научных поисков уже было известно значительное количество фактов системной организации действительности. Следовательно, системная установка была известна науке давно.
Таким образом, и это уже во-вторых, можно утверждать совершенно обратное: мы знаем, что действительность системно организована, потому что наше мышление и наше познание действительности системно организованы. Но это будет столь же односторонним и абстрактным утверждением, как и первое, хотя и верным в своей абстрактности. Однако истина всегда конкретна, и в нашем случае она заключается не в том, что надо исходить непосредственно из системной организации действительности самой по себе и системной организации мышления самого по себе, а в том, чтобы исходить из системной организации взаимодействия человека с действительностью, прежде всего практического взаимодействия, как учит марксизм. Иначе непонятен и необъясним системный и целостный характер человеческого мышления в его интенции.
Древние наблюдали только «неправильные» движения небесных светил. Что же толкало их к тому, чтобы мыслить и представлять их себе как «правильные»? Откуда та имеющая величайшее значение уверенность, что мир устроен по законам красоты и гармонии, которая с особенной силой проявилась в учении пифагорейцев и Платона?
Рациональное объяснение этому факту дал впервые К. Маркс. Человек во всем видит меру и гармонию, потому, говорил он, что он производит универсально, то есть соблюдая универсальную меру, потому что «умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету присущую мерку; в силу этого человек строит также и по законам красоты» 25.
Мера — это и есть существенное в человеческой жизни и всей природной действительности одновременно, потому что соблюдается она прежде всего в практическом взаимодействии человека с действительностью, в котором он сам действует как сила природы, как нечто целиком и полностью ей тождественное.
«Глаз стал человеческим глазом, — пишет Маркс, — точно так же, как его объект стал общественным, человеческим объектом, созданным человеком для человека. Поэтому чувства непосредственно в своей практике стали теоретиками. Они имеют отношение к вещи ради вещи, но сама эта вещь есть предметное человеческое отношение к самой себе и к человеку, и наоборот. Вследствие этого потребность и пользование вещью утратили свою эгоистическую природу, а природа утратила свою голую полезность, так как польза стала человеческой пользой» 26.
Созерцательный характер древнегреческой науки, который порой еще считается ее недостатком, был в то же время ее величайшим преимуществом. Древний грек мог созерцать природу в ее целостности. И не случайно поэтому, что именно тогда, когда пользование вещью стало сугубо эгоистическим, когда развилась система всеобщей «голой полезности», оказалось выхолощенным чувство красоты, а вместе с ним целостный характер восприятия действительности. На место бескорыстного искания истины, которая была неразрывно связана с идеями блага и красоты, приходит прагматическая философия позитивизма.
Итак, исходным пунктом системного движения познания является схваченная и удерживаемая в представлении «чувствами-теоретиками» целостность, некоторый интегральный образ целого... Это то, что постоянно «витает», по словам Маркса, перед мысленным взором на протяжении всего пути теоретического анализа. «Теория», согласно этимологии этого слова и по существу, — это «созерцание». И как таковая она противоположна деятельности, практике. Суетность противопоказана мудрости, – вот то основное положение, которое характерно для всей идеологии древних. И это вовсе не потому только, что это идеология рабовладельцев, считающих унизительным для себя всякое практическое занятие, здесь есть свои, и очень веские, «гносеологические» основания: практическая деятельность, хотя в ней и присутствует универсальная мера, имеет дело непосредственно с частностями и упускает из виду целое. Но именно эта противоположность теории и практики, как это отчасти уже было показано, является основанием их действительного, прочного единства.
«Единство мышления и представления, — писал Гегель, — есть то, что труднее всего показать» 27. Это единство трудно показать именно потому, что мышление и представление — противоположности: представление созерцательно, мышление деятельно. Отсюда и возникает ложное представление, согласно которому когда мы мыслим, мы ничего себе не представляем, а когда представляем, то ни о чем не мыслим. Мышление именно тогда и обнаруживает свою практическую деятельностную природу, когда оно преодолевает созерцательность обычного представления. Оно поэтому в своей сути всегда негативно, отрицательно по отношению к обычному представлению, и диалектика поэтому составляет его суть. Вместе с тем оно обнаруживает также, что представление — это всего лишь покоящаяся деятельность, образ, нарисованный деятельностью наших «чувств-теоретиков», а потому и заключающий в себе нечто большее, нежели то, что «непосредственно» дано чувством. И тогда мышление убеждается в том, что всякая абстракция «чистого» чувственного опыта, опыта вполне освобожденного, очищенного от всякой рефлексии, является всего лишь недействительной абстракцией.
Но чтобы быть отрицаемым деятельностью мышления, образ представления должен быть целостным и «покоящимся». Именно в этом, в этом «отношении», проявляется логическое значение целостности и системности нашего знания в его первоначальной, созерцательной форме, а вовсе не в том, что оно пассивно отражает, выражает и т.д. целостный и системный характер действительности.
Мысля определенное, изменчивое, разум необходимо наталкивается на противоречия. И, что особенно важно, эти противоречия имеют место именно тогда, когда мысль строго придерживается выработанных ею исходных теоретических определений, то есть когда она последовательно логична, монистична. Диалектика — продукт развивающейся логики и условие ее дальнейшего развития. Вне этой логики четко фиксированных определений, вне этого имманентного движения мысли диалектика будет просто путаницей, ибо бессистемно движущаяся на поводу у случайного опыта мысль никогда не испытывает недостатка в противоречиях. Однако эти противоречия не имеют никакой научной ценности. Диалектика фиксирует не просто противоречия в определении вещей (ведь последние могут быть и случайными), но противоречия именно в теоретических, то есть существенных и необходимых, определениях вещей.
Как уже было сказано, диалектика есть противоречие в сущности вещей, выражаемое в теоретических определениях и понятиях. Вещь, не фиксированная в научном определении, взятая в ее непосредственном наличном бытии, в качестве предмета опыта, допускает любое, как диалектическое, так и метафизическое, релятивистское истолкование. Важно лишь уяснить, что эта абстракция задается не нашим отношением к вещи, а ее объективным положением в системе вещей, ее «объективной функцией, полагающей ее как определенность, как сущность, то есть «практически истинной абстракцией» (К. Маркс).
Пока не установлена эта система вещей, полагающая их определенность, никакая диалектика не возможна. Такая «вещь», как торговая прибыль, в одной системе, скажем в феодальных отношениях, представляет одну сущность, а в другой системе – другую. Именно систему, в которой каждая вещь «взвешена» как сущность, и устанавливает наука.
Теоретические определения поэтому и представляют собой условия познания диалектики вещей, способ бытия научной диалектики. Поэтому-то Гегель с полным правом говорит об элеатах: «Мы здесь находим начальную стадию диалектики, т.е. как раз начальную стадию чистого движения мышления в понятиях...» 28. Другое дело, когда ставится вопрос об источнике этого движения: мышлением ли полагается это «очищенное» содержание, или его доставляют практика и опыт? Только здесь пролегает действительная граница между идеалистической и материалистической диалектикой. Что же касается самого «очищения», то без него нет диалектики, так как без него нет и не может быть науки.
В «очищении» материала опыта монистической мыслью диалектика становится достоянием не только эстетического чувства, которое схватывает противоречие в непосредственной форме его обнаружения, но и теоретической мысли. Монистическая логика — условие этого освоения.
Диалектика «позитивного» рассудка, полагающего систему формальных определений некоторой конкретности, и «негативного» (диалектического) разума, эту систему отражающего и вскрывающего за ней более существенные определения действительности, хорошо иллюстрируется на примере того же самого соотношения систем Птолемея и Коперника. Отрицательность разума означает в данном случае отрицание системы Птолемея, этой завершенной системы субъективной видимости. Объективная картина действительного положения вещей может быть получена только в результате отрицания этой системы субъективной видимости. И в этом проявляется ее логическое значение как системы, логическое значение ее системной формы.
Иначе непонятно, что мы отрицаем. Для того чтобы отрицание было конструктивным, к чему-то вело, оно должно быть определенным отрицанием, то есть отрицаемое содержание должно быть строго определено. Ведь в состав Птолемеевой системы входит и то положение, что Солнце «всходит» на востоке и «заходит» на западе. Но мы не это отрицаем. Иначе мы утверждали бы полнейшую нелепость.
Однако относительно одного положения Птолемеевой системы мы можем и должны утверждать нечто противоположное. И такое положение должно иметь место. Коперниканская система утверждает, что Солнце неподвижно, а Земля и прочие планеты солнечной системы обращаются вокруг этого неподвижного центра. Это прямо противоположно тому, что мы наблюдаем с Земли и что кладет в свою основу птолемеевская система.
На каком же основании противоположность только относительно одного положения распространяется на всю систему положений? Да только на том основании, что мы имеем не простую сумму, а систему положений. Положение же, относительно которого обнаруживается противоположность является тем, что можно назвать системообразующим принципом.
Вот где проявляется истинное значение системной организации и системного характера человеческого познания, если оно понимается как истинно всеобщее, логико-методологическое значение. Оно состоит в том, что мышление не может отразить существенных свойств действительности, которые проявляются всегда как системные свойства, не организуясь системным образом. И его системная организация в качестве противостоящей системной организации действительности есть всего лишь часть системной организации самой действительности, ей противостоящая и противоречащая, ведь мышление представляет собой тоже определенный род действительности.
Формальное отличие системной организации мышления, его логики, от системной организации самой действительности с точки зрения выявленной двойственности состоит в том, что в действительности каждый отдельный момент некоторой целостности определен со стороны целого, — в рациональном постижении и теоретическом определении этой целостности мы идем наоборот: от формальных моментов — к системе целого, в теоретической картине которого эта формальная противоположность снимается. Но поскольку она все-таки есть в качестве именно такого исчезающего момента движения познающего мышления, причем «исчезающим» он оказывается порой в масштабах столетий развития человеческого познания, то это дает вполне понятное — «гносеологическое» основание для утверждения о собственной специфической организации человеческого мышления, его логики, по сравнению с логикой самой сути дела.
И очень важно понять, что это не просто субъективная иллюзия, а иллюзия вполне аналогичная той, что Солнце «всходит» на востоке и «заходит» на западе. Вопрос о социальных корнях этого заблуждения мы здесь оставляем в стороне, хотя таковые здесь также имеются.
Итак, необходимость системной организации мышления обусловлена потребностями его самодвижения и саморазвития. Действительная объективная научная картина солнечной системы получается в результате своеобразной «инверсии» исходного и системообразующего принципа птолемеевской системы как системы субъективной видимости, отчего последняя и должна быть системно организована. Иначе мы истинной теории получить не можем: непосредственно в нашем опыте и нашей узкой земной практике не дано того, что наша Земля обращается вокруг Солнца. Такова в данном случае необходимая последовательность развития науки. А если она необходимо такова, то переход познания на высшую ступень, на ступень объективного знания, невозможен без строгого монизма с самого начала. Наше знание с самого начала должно быть организовано в монистическую систему для того, чтобы обнаружить свой системообразующий принцип: ведь не может же быть системообразующего принципа без системы.
Получается странная и парадоксальная картина: субъективное видение действительности должно быть системно оформлено, чтобы быть затем снятым и опровергнутым теорией, выражающей объективное положение вещей. Странность и парадоксальность здесь проистекают из того же самого положения, согласно которому сущность и явление непосредственно не совпадают. Это положение в полной мере распространяется и на человеческое познание: субъективные мотивы, которые движут человеком в познании действительности, не только не совпадают с объективным смыслом тех или иных познавательных операций, которые он совершает, но они часто прямо противоположны этому объективному смыслу. Ясно, что субъективные мотивы, которыми руководствовались Птолемей и Аристотель, строя свои системы видения мироздания, не предполагали появления Коперника, который перевернул всю созданную систему представлений с ног на голову.
Между прочим, тот поворот дела, который здесь представлен, несмотря на его кажущуюся «парадоксальность», объясняет также множество других моментов, которые оказываются совершенно необъяснимыми с других позиций. Оставим на некоторое время наш привычный пример с солнечной системой и обратимся к другому случаю – к истории развития геометрических представлений.
Прежде всего здесь нетрудно подметить совершенно аналогичный ход событий. Мы знаем, что геометрические представления были систематизированы в «Началах» древнегреческого математика Евклида и в таком виде просуществовали в своей основе вплоть до начала XIX столетия, когда появились так называемые неевклидовы геометрии, геометрия Лобачевского и Римана. Переход к этим геометриям произошел аналогично тому, как он произошел от системы Птолемея к системе Коперника, причем здесь этот переход получил даже более характерное и чистое выражение. При этом переходе системообразующий принцип евклидовой геометрии — постулат о параллельных прямых — был заменен на противоположный ему. В геометрии Евклида этот постулат звучал примерно так: через точку вне прямой можно провести только одну прямую, параллельную данной. В неевклидовых геометриях он звучит так: через точку вне прямой можно провести сколько угодно прямых, параллельных данной. Утверждение это ввиду его очевидной «парадоксальности» вызвало в свое время и вызывает до сих пор не меньшее смятение в умах, чем в свое время утверждение Коперника о том, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот, Земля вращается вокруг Солнца.
Какой же смысл имела в этой связи система Евклида? Причем надо заметить, что системные качества «Начал» Евклида более очевидны, чем системные качества Птолемеевой теории солнечной системы. Оказывается, что действительный исторический смысл системы Евклида — подлинный объективный смысл всякой научной теории всегда проявляется как ее исторический смысл — заключается в том, чтобы выделить системообразующий принцип эмпирических геометрических представлений.
Дело не только в том, что евклидова геометрия вполне обслуживала практические нужды людей в различных областях их деятельности: для практических нужд вполне достаточно эмпирически найденных правил измерения площадей и объемов, которые были известны уже в Древнем Египте. Доказательства теорем, как это ни странно, нужны не для того, чтобы сделать их неопровержимыми, а наоборот, чтобы сделать их опровержимыми, если рассматривать их с точки зрения потребностей исторического и логического развития научного знания.
Строение и характер неевклидовых геометрических представлений – ключ к пониманию строения и характера евклидовых геометрических представлений. Только с точки зрения исторического генезиса, исторического развития можно понять логический смысл структурных особенностей определенных теоретических построении. И в этом историческом развитии науки проявляются чистая логическая форма этого развития и логическое значение ее системного характера.
Логическое значение систематической формы науки двойственно и противоречиво. Это и представляет определенную трудность для ее понимания. Так, Гегель с некоторыми вариациями в разных местах своих сочинений приводит положение, что плуг более почетен, чем те плоды, которые он доставляет. Плоды потребляются — плуг сохраняется, а тем самым он сохраняет возможность повторения нового цикла и, стало быть, нового потребления. В орудии, а не в тех вещах, которые с его помощью производятся, человек обладает властью над природой. Точно так же и системное качество знания более ценно, чем его непосредственная прагматическая польза. Первое образует возможность дальнейшего движения, повторения все новых и новых циклов. В нем поэтому, как и в орудии, я владею всеобщим содержанием, оно, как и орудие, является средоточием единства бытия и мышления, где его, по словам К. Мегрелидзе, легче всего наблюдать 29.
Но эта чистая форма движения и развития науки проявляется только в историческом измерении этого движения и развития и снимается в качестве определенного исторического результата. Только в историческом переходе от одной теоретической системы представлений к другой проявляется логическое значение основных свойств системной организации науки, как и сами эти основные свойства. Одним из таких свойств системной организации науки является полнота системы, к рассмотрению которой мы теперь переходим.
5. Полнота формальных и содержательных систем
Гегель, как было уже сказано, считал своей задачей обосновать истинную форму существования истины, которой может быть только научная система. Само собой понятно, что, для того чтобы выполнить эту задачу, он должен был и самому обоснованию истинной формы науки придать научную форму: ведь это обоснование должно быть истинным, а истинной формой существования истины, как он справедливо считал, может быть только научная система. Таким образом, задача философского обоснования научной формы, а тем самым всякой науки сразу же оборачивается задачей придания философии научной формы. А поскольку научная форма — это система, то и философия, чтобы выполнять свою задачу по отношению к науке, должна быть приведена в систему.
Система может быть опровергнута только системой, как отмечал Маркс. Соответственно и системой может быть опровергнута только система. Это было уже отчасти показано. Нельзя логически опровергнуть то, что не имеет под собой вообще никакой логики. Поэтому всякое знание, всякое учение может стать ступенькой прогрессивного движения вперед только тогда, когда оно систематически организовано. Гегель отнюдь не был первым, кто поставил вопрос о превращении философии в науку. Этот вопрос был поставлен всей классической немецкой философией, начиная с Канта. Но особенно ярко эта тенденция проявилась в философии Фихте, на чем и хотелось бы специально остановиться, тем более что Фихте поставил вопрос не только о научной системе, но и о ее полноте, что было сделано впервые только им.
Истинную задачу философии Фихте, как и другие представители классической немецкой философии, видел в том, чтобы дать ответ на один простой и ясный вопрос: «Как возможны вообще содержание и форма науки, т.е. как возможна сама наука?» 30 Но ответ на вопрос о том, как возможна наука, может дать только наука, это должна быть наука о науке вообще.
«Разумелось ли до сих пор под словом “философия”, — продолжает развивать свою мысль о философии как наукоучении Фихте, — именно это или нет, это не имеет значения; и тогда эта наука, если бы она действительно сделалась наукой, не без права отбросила бы имя, какое доселе она носила далеко не из чрезмерной скромности, имя, подобающее знахарству (Kennerei), любительству, дилетантизму... Так называемая до сих пор философия стала бы таким образом Наукой о науке вообще» 31.
Фихте вслед за Кантом объявляет смертный приговор всей прежней философии как знанию обо всем. Философия получает у него конкретный предмет – науку вообще, ее форму. Наукоучение должно заниматься обоснованием формы науки. Что же такое форма науки?
«Каждая наука, — отвечает Фихте, — если она должна быть не отдельным, оторванным положением, но целым, состоящим из многих отдельных частей, имеет систематическую форму... Эта форма, условие связи выведенных положений с основоположением и основание правомочия — заключать из этой связи, так что первые положения необходимо должны быть такими же достоверными, как и последнее, также не может быть доказана в отдельной науке, если только эта последняя должна иметь единство, а не заниматься чуждыми, не принадлежащими ей предметами, как не может быть в ней доказана правда ее основоположения, но уже предполагается для возможности ее формы. Общее наукоучение обязано, таким образом, обосновать систематическую форму для всех возможных наук» 32.
Любая наука может быть догматической, то есть брать свои основоположения как нечто непосредственное и недоказанное и из этого исходить. Наукоучение же должно быть критическим по отношению к остальным наукам, поскольку оно обосновывает их основоположения. Но оно должно быть также критическим по отношению к самому себе, то есть обосновывать свои собственные основоположения, иначе неизбежен регресс в бесконечность. Вот где прорисовывается образ цепи, не беспомощно висящей, а «круглящейся»: Фихте своим наукоучением прокладывает путь к диалектическому методу — методу самообоснования науки.
Само себя обосновывает у Фихте только наукоучение. «Каждая возможная наука, — пишет Фихте, — имеет основоположение, которое не может быть доказано в ней, но должно быть до нее заранее достоверным. Где же должно быть доказано это основоположение? Без сомнения в той науке, которая должна обосновать все возможные науки. В этом отношении наукоучение должно сделать два дела. Прежде всего оно должно обосновать возможность основоположений вообще; показать, как, в какой мере, при каких условиях и, может быть, в какой степени что-либо может быть достоверным; далее оно должно, в частности, вскрыть основоположения всех возможных наук, которые не могут быть доказаны в них самих» 33.
Что же получается дальше у Фихте? Надо заметить, что рассуждает он очень строго и последовательно, и именно эта последовательность приводит его в конце концов к результату, который по своей ценности окупает все издержки, связанные с субъективно-идеалистическим в конечном счете обоснованием всего его наукоучения.
Дальше Фихте констатирует, что «само наукоучение есть наука» 34. И отсюда вытекают все последствия, с этим связанные. «Оно также, — пишет далее Фихте, — поэтому должно иметь основоположение, которое в нем не может быть доказано, но должно быть предположено как условие его возможности как науки. Но это основоположение также не может быть доказано ни в какой другой высшей науке; ибо иначе эта высшая наука был бы сама наукоучением, а та наука, коей основоположение еще должно было бы быть доказано, не была бы им. Это основоположение наукоучения, а через наукоучение и всех наук и всего знания поэтому безусловно не способно к доказательству, то есть не может быть сведено ни к какому высшему положению, из отношения к которому вытекала бы его достоверность. Тем не менее оно должно давать основание всякой достоверности; оно должно быть поэтому достоверным и достоверным в себе самом ради самого себя и через самого себя» 35.
Это «в-себе-ради-себя-через-себя» вовсе не гегельянская выдумка, как иногда представляют, а общая формула решения определенной задачи, которая вовсе даже не Гегелем впервые поставлена, а поставлена по сути самой историей развития философии, развития учения о методе. Основоположение наукоучения не может быть и в то же время должно быть достоверным — вот противоречие, которое должно разрешить наукоучение; наукоучение поэтому неизбежно исторически и логически порождает из себя диалектику, переходит в диалектику, становится диалектикой.
В отдельных науках это противоречие может быть «разрешено» тем, что они постулируют, принимают без доказательства свои основоположения, равно как и систематический способ их дальнейшего развития: каждая наука сама не обосновывает свои, как теперь выражаются, дедуктивные средства. Эту систематическую форму развития наукам может дать только наукоучение. «Но оно, — рассуждает далее Фихте, – не может ни заимствовать эту систематическую форму от какой-либо другой науки в отношении ее определения, ни ссылаться на доказательство ее в другой науке в отношении ее значимости, ибо оно само должно установить для всех прочих наук не только основоположения и через это — их внутреннее содержание, но также и форму и тем самым возможность связи многих положений в них. Оно должно поэтому иметь эту форму в самом себе и обосновывать ее через самого себя» 36.
В этом «самом себе» и «через самого себя» и заключается принцип субстанциальной целостности и тотальности, как мы видели. И формой этого принципа является А и не‑А, субстанция и есть одновременно и причина и результат, само существующее противоречие, как сказал бы Гегель. Критицизм, доведенный до своего логического конца Фихте, — это и есть спинозизм «наоборот». Якоби поэтому с полным правом мог утверждать, что существуют только две последовательные философские системы: критицизм и догматизм, то есть кантианство и спинозизм.
Здесь появляется еще один новый момент. Дело в том, что, решая проблему «начала», мы решаем одновременно и проблему «конца». Это одна и та же проблема: если «цепь» нашего познавательного движения не замкнута, то мы не сможем достичь не только ее начала, идя по пути подведения все новых и новых оснований, но мы не можем достичь и ее конца, идя по пути выведения все новых и новых следствий. Иначе говоря, проблема состоит в том, можем ли мы вообще иметь гарантию того, что мы получили все следствия из принятого основоположения, и в чем могут состоять эти гарантии. Проблему можно сформулировать и в такой форме: в чем гарантии того, что интересующая нас конкретность описана полностью. Эту проблему Фихте и формулирует как проблему полноты.
В общей форме гарантией полноты некоторой системы положений может быть только то, что в «конце» мы приходам снова к«началу»: если мы вернулись к началу, то дальше нам двигаться просто некуда. А это означает, что с самого начала мы берем такое основоположение, которое в себе раздвоено, внутренне противоречиво. У Фихте ход рассуждения примерно аналогичный, от проблемы полноты он приходит к необходимости признания противоречия в основании полной системы. «Человеческое знание, — пишет он, — вообще должно быть исчерпано, это значит, что должно быть безусловно и необходимо определено, что человек может знать не только на теперешней ступени своего существования, но и на всех возможных и мыслимых ступенях» 37. Такие претензии обычно отпугивают людей. Поэтому Фихте спешит «успокоить» читателя, которого пугает мысль, что все уже познано и ему уже больше делать нечего.
«Собственно задачи человеческого духа, — пишет он в примечании, – бесконечны как по их числу, так и по объему; их разрешение было бы возможно только через совершенное приближение к бесконечному, что само по себе невозможно, но они таковы только потому, что они даются как бесконечные. Существует бесконечное множество радиусов бесконечного круга, центр которого дан; и как только дан центр, даны и весь бесконечный круг и бесконечно многие его радиусы. Одна конечная точка последних, правда, лежит в бесконечности но другая лежит в центре и эта последняя обща всем. Центр дан, направление линий также дано, ибо они должны быть прямыми линиями, следовательно, все радиусы даны (единичные радиусы из бесконечного числа таковых определяются через постепенное развитие нашей первоначальной ограниченности, как долженствующие быть проведенными, но они этим не даны, даны они одновременно с центром). Человеческое знание бесконечно по степеням, но по качеству своему оно совершению определяется своими законами и может быть вполне исчерпано. Задачи, ставятся и должны быть исчерпаны, но они не разрешены и не могут быть разрешены» 38.
Иначе говоря, если мы имеем перед собой бесконечный ряд истин, то это вовсе не означает, что для этого мы должны иметь бесконечный алфавит. Речь идет об исчерпании законов человеческого познания, о создании полной и законченной системы наукоучения, а такая задача не только может, она должна ставиться, если мы вообще считаем познание возможным: у нас не было бы гарантии того, что мы в состоянии постичь любую истину, если бы мы не были уверены в том, что мы обладаем всем необходимым и достаточным набором средств для достижения любой познавательной цели.
«Это возможно, — развивает далее свою мысль Фихте, — только при следующих условиях: прежде всего следует показать, что установленное основоположение исчерпано, а затем, что невозможно другое основоположение, кроме установленного.
Основоположение исчерпано, если на нем построена полная система, то есть если основоположение необходимо приводит ко всем установленным положениям, и все установленные положения необходимо снова приводят к нему. Если в целой системе не встречается положения, которое может быть истинно, если основоположение ложно, или ложно, если основоположение истинно, это будет отрицательное доказательство того, что никакое положение не является излишне взятым в систему, ибо то, которое не принадлежало бы к системе, могло бы быть истинным, если основоположение ложно, и ложным, если бы основоположение было истинным» 39.
Этим, отмечает далее Фихте, «доказывается, что наука вообще систематична, что все ее части связаны в одном-единственном основоположении. Наука есть система, иначе говоря, она закончена, когда далее не может быть выведено ни одно положение: и этим дается положительное доказательство, что в системе нет ни одного недостающего положения» 40. Научная система, таким образом, если она хочет быть действительно системой, должна быть полной системой. Не может быть фрагментарной системы, иначе она была бы только фрагментом системы, а не самой системой. Полнота оказывается важнейшим, тождественным с бытием, свойством системы. Проблема упирается теперь только в критерии полноты, и если они могут быть четко указаны, то этим самым мы вполне определим понятие системы.
«Вопрос состоит только в следующем, — пишет далее по этому поводу Фихте, — когда и при каких условиях может быть выведено какое-либо дальнейшее положение, ибо ясно, что только относительный и отрицательный признак — я не вижу, что может следовать дальше, — ничего не доказывает. После меня может прийти другой, который увидит нечто там, где я ничего не видел. Мы нуждаемся в положительном признаке для доказательства, что дальше безусловно и необходимо ничего не может быть выведено; и таким признаком может быть только то, что само основоположение, из которого мы исходим, есть вместе с тем и последний результат. Тогда было бы ясно, что мы не могли бы идти дальше, не проделывая сызнова тот путь, который мы уже раз прошли. При последующем установлении науки будет видно, что она действительно проделывает этот круг и покидает исследователя у той самой точки, из которой она вместе с ним вышла, что она таким образом также приводит второе положительное доказательство в себе и через себя саму» 41.
Последнее замечание очень важно: наука может доказать свою полноту с положительной стороны — что нет ни одного положения, не содержащегося в системе, – только «в себе и через себя саму». Но такой полной и целостной системой может быть только одна единственная система, система самого Наукоучения. Почему? Да потому, что только оно способно «выдерживать» противоречие. «Наукоучение, — замечает Фихте в этой связи, — имеет, следовательно, абсолютную целостность. В нем одно ведет ко всему и всё к одному. Оно единственная наука, которая может быть закончена. Законченность поэтому ее отличительный признак. Все другие науки бесконечны и никогда не могут быть закончены; ибо они не возвращаются вспять к своему основоположению. Наукоучение может это доказать для всех и дать основание для этого» 42.
Почему Фихте так считал? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо четко представлять себе ту ситуацию в науке, в которой исторически оказался Фихте, когда он создавал свое Наукоучение. Дело в том, что любая наука в то время представляла собой цепь положений, не «круглящуюся», не замыкающуюся на саму себя, где результат обосновывает свое начало, а «висящую», один конец которой указывает на незавершенность ее, а другой не принадлежит ей самой, потому что основоположения всех наук обосновывались в метафизике.
И даже науки по видимости законченные и целостные, такие, как евклидова геометрия, и приближающиеся по способу своего построения к ней — классическая механика и аристотелевская силлогистика — строились на некоторых основоположения, которые в самих этих науках не обосновывались. К тому времени эти науки и были наиболее развиты и наиболее известны, и Фихте здесь повторяет ошибку почти всей философии нового времени, усматривавшую форму науки вообще в «геометрическом» методе, который в настоящее время обычно называется дедуктивно-аксиоматическим.
Этот метод и сегодня полагается многими философами идеалом научного метода, а математика, в которой этот метод осуществляется в наиболее полном своем выражении, считается идеалом науки. Против этого трудно спорить.
Но такое понимание общей формы науки неизбежно сохраняет субординацию, свойственную старой метафизике и онтологии: начала, основные понятия наук самим наукам не принадлежат, а принадлежат некоторой науке наук — метафизике, онтологии, которая начала всех наук связывает в один узел. Получается известная пирамида, вершину которой образует философия.
Наука сама не может себя обосновать. «Довольствуясь отбросами старой метафизики, — писал Энгельс, — естествоиспытатели все еще продолжают оставлять философии некоторую видимость жизни. Лишь когда естествознание и историческая наука впитают в себя диалектику, лишь тогда весь философский скарб — за исключением чистого учения о мышлении — станет излишним, исчезнет в положительной науке» 43. Иными словами, как только наука будет в состоянии обосновывать сама себя, свои собственные основоположения, станет излишней всякая метафизика. Диалектика поэтому более радикальна в своем отрицании всякой метафизики, чем современный позитивизм, который в данном случае кичится споим мнимым радикализмом, по существу восстанавливая ту же самую метафизику, только «наоборот».
Исторически каждая отдельная наука приходит к диалектике с ее основным принципом, принципом противоречия А и не‑А, длительным и трудным путем. Это уже было отчасти показано. Ко времени Фихте ни одна наука еще не обнаружила этого принципа в своем собственном фундаменте; но даже и тогда, когда какая-либо наука его обнаруживает в своем собственном фундаменте, в своих основаниях, как это произошло, например, с математикой на рубеже XIX и XX столетий, она отнюдь не сразу осознает его как свой собственный имманентный принцип.
Такова ситуация в настоящее время. Фихте хотел бы, но не мог допустить диалектику за пределами Наукоучения, современные позитивистски настроенные философы могут, но не хотят допустить диалектику за пределами «философии», которая в силу этого приобретает характер скорее отрицательного, чем положительного идеала.
Насколько труден путь к диалектике, видно как раз из того, как осторожно и в какой ограниченной форме допускает ее Фихте, признавая возможным противоречие только в рамках Наукоучения, но ни в коем случае не за его пределами. Для Фихте ясно, что в полноте и завершенности системы мы можем быть убеждены только тогда, когда мы получим в качестве следствия ее собственное основоположение, когда круг замкнется. Но он видит здесь только круг и, следовательно, только формальное противоречие и потому понимает его как всего лишь исключение для формального закона, запрещающего противоречие. «Здесь есть круг, — заявляет он, — из которого никогда не может выйти человеческий дух; и будет совершенно правильным — определенно признать этот круг, чтобы не впасть в затруднение когда-нибудь, вследствие неожиданного его открытия» 44.
На самом деле у Фихте в дальнейшем развитии его Наукоучения нет простого круга: Я, которое положено в начале в качестве основоположения, и Я, которое получается в конце, в результате опосредствования, это разные по содержанию Я; последнее обогатилось и «сгустилось» внутри себя, превратив первое в свой собственный абстрактный момент и став таким образом основанием своего собственного основания, будучи в то же время его следствием, следствием его развития. Это не просто круг, потому что Я в конце и Я в начале — это только формально одно и то же Я, по существу же это два разных и противоположных Я. Здесь имеет место не формальное, а материальное противоречие.
Формальные и материальные (содержательные) принципы в человеческом познании четко различал уже предшественник Фихте И. Кант. Вот как он поясняет разницу этих принципов. «Всякое положение, — пишет он, — должно иметь основание – это логический (формальный) принцип познания, который не стоит рядом с положением противоречия, а подчиняется ему. Всякая вещь должна иметь свое основание — это трансцендентальный (материальный) принцип, который никто никогда не доказал из положения противоречия (и вообще из одних только понятий, без отношения к чувственной интуиции) и не докажет» 45.
Согласно идее трансцендентализма, всякий трансцендентальный принцип – это одновременно принцип, которому подчиняется бытие, и принцип, которому подчиняется познание. Например, принцип причинности есть принцип самой действительности и принцип мышления о всякой действительности. Поэтому трансцендентальная логика не является простым расширением формальной логики — это качественно иная логика, логика, трактующая о трансцендентальных принципах или категориях.
Трансцендентальные (материальные, содержательные) принципы выше формальных, а потому не могут быть выведены из последних. Таково одно из важнейших положений кантовской трансцендентальной Логики, делающих честь ее создателю. Но Кант даже не попытался показать подчиненный и производный характер формальных принципов по отношению к материальным. Первая в истории попытка сделать это принадлежит Фихте, который развил далее идею трансцендентализма. Во всяком случае, он первый зафиксировал, что система, основанная на противоречии А и не‑А, должна «противоречить материально» 46 системе формальной, основанной на принципе формального тождества А=А.
Здесь находит свое подтверждение та диалектическая истина, что всякое существенное различие так или иначе проявляет себя как противоположность и противоречие. Имеется ли такая противоположность и, следовательно, существенное различие между формальным и материальным принципом? Чтобы ответить на этот вопрос, нужна некоторая изобретательность, как, впрочем, и на любой вопрос неформального характера.
Представим себе такой случай. Возьмем обыкновенный геометрический круг. Где у него начало и где у него конец? Нет у него ни того ни другого. Можно ответить и так. Но можно сказать также, что любая его точка есть одновременно и начало и конец, в одно и то же время, в одном и том же отношении.
Посмотрим теперь, что же является реальным основанием такого совпадения противоположностей. Им является особенная форма круга или, проще говоря, сам круг. По формальному основанию этого быть не может, а по реальному (материальному) основанию должно быть; ведь то, что мы рассмотрели, — это всего лишь имплицитное свойство круга и ничего больше. Выходит, формальный принцип может противоречить материальному. Форма может, а в определенных условиях должна противоречить содержанию. Безусловным от формального принципа остается только то, что он запрещает противоречить самому себе. Но разве я противоречу самому себе, когда я утверждаю, что любая точка окружности есть одновременно и ее начало и ее конец, когда я утверждаю, что движение противоречиво, и т.д.?
Тот факт, что формальный принцип противоречит реальному, был, собственно, обнаружен давно. А элеаты по существу дали этому доказательство. При аналитическом разложении движения неизбежно получается противоречие, но тем не менее движение реально, и именно оно само является реальным основанием своего собственного имплицитного свойства: тело при движении находится в данный момент в данной точке и не находится в ней. И хотя эти принципы противоречат друг другу, они, несмотря ни на что, оба принимаются и ни один из них не отбрасывается.
Диалектика формального и материального сама по себе очень сложна, и о ней можно и нужно говорить подробно. Здесь, к сожалению, нет возможности развернуть ее полностью, и здесь могут оставаться неясности. По крайней мере одна из них может состоять вот в чем. Материальный принцип оказывается важнее формального, и утверждается диалектикой в качестве такового. Он отрицает формальный принцип в процессе своего исторического и логического утверждения. Возникает вопрос, почему же, после того как обнаруживается недостаточность формального принципа, он все-таки сохраняется в качестве всеобщего логического принципа? Иногда на этом основании пытаются приписать диалектике совершенно нелепую идею, что она якобы не признает законов формальной логики.
Законы формальной логики нельзя отрицать так же, как нельзя отрицать правил грамматики русского языка, если вы вообще хотите быть понятыми своими соотечественниками. Но этого вовсе не достаточно для того, чтобы сообщить людям истину, потому что для этого надо ее иметь. Однако ни формальная логика, ни грамматика не решают вопроса об истинности наших понятий и представлений. Уже Кант ясно осознал, что любая чепуха может быть выражена в непротиворечивой форме и потому «общая логика» недостаточна и должна быть дополнена другой логикой, которую Кант назвал трансцендентальной. Логическая форма до определенной степени нейтральна по отношению к истине и лжи, как и грамматика: можно очень складно и даже с соблюдением всех канонов изящной словесности наговорить много чего, но... это не освобождает нас от необходимости соблюдения тех же самых правил, если мы хотим выразить какие-то серьезные и истинные вещи.
Формальный принцип отрицается материальным принципом, и этим самым он превращается в подчиненный принцип, но вместе с тем он обнаруживает также и свой действительный логический смысл. Историческое отрицание этого принципа, которое наиболее отчетливо проявилось в диалектике Гегеля, — это всего лишь отражение логики мышления в истории ее теоретического освоения, здесь мы имеем дело с одной из форм проявления единства (тождества) логического и исторического, о котором специально речь идет в разделе об историзме. Поэтому нелепо приписывать Гегелю то, что к нему не имеет отношения, — он выполнял в данном случае определенную историческую миссию, и не более того.
Диалектика Фихте еще страдает совершенно определенным формализмом, что отмечал Гегель и за что критиковал его. Но, несмотря на весь свои формализм, Фихте все-таки понимал, что система, основанная на принципе, противоречащем формальному принципу, может противоречить ему только материально, а потому она сама в отличие от формальной системы носит материальный характер и выявляет материальный смысл формальной системы.
Мы уже видели, что всякая содержательно полная система содержит в себе свое собственное отрицание. Если мы признаем собственным конституирующим моментом всякой полной системы принцип или основоположение А и не‑А, то отрицание этой системы будет прежде всего отрицанием ее принципа, то есть принципом, противоположным первому, А=А. Может ли последний быть неформальным, материальным принципом? Нет, не может, потому что о любом содержании, о любой «материи» можно сказать что оно равно самому себе. Конкретная форма самой этой материи здесь совершенно безразлична по отношению к форме утверждения А=А. Принцип А и не‑А, будучи отрицанием принципа абстрактного тождества А=А, является вместе с тем отрицанием формализма, с ним связанного, — он связан всегда с определенным содержанием, с определенной конкретной формой, как и с конкретной формой круга в приведенном выше примере. Поэтому когда говорится о формальном противоречии, то при этом можно иметь в виду только то, что это противоречие только по форме, но не по существу, не по содержанию, что оно не есть действительное противоречие. Когда имеется только утверждение А и его отрицание не‑A, то это означает, что мы имеем только форму противоречия, а не само противоречие. Чтобы стать действительным противоречием, эта форма должна быть опосредована конкретным содержанием: А через развитие собственного содержания должно изменить свою форму на не‑А, оно должно силой собственного содержания перейти в свою собственную противоположность.
Из этого и должно быть понятно, что всякая система, имеющая своим основоположением принцип А и не‑А, хотя в данном случае указывается только форма принципа, а не сам принцип, может быть только материальной или содержательной, а не формальной системой. И всякая система, основанная на формальном принципе абстрактного тождества А=А, может быть только формальной системой. Первая полна, полностью, исчерпывающим образом описывает системную действительность; вторая может быть полна только относительно: полностью она может описывать только формальные условия познания, но не саму логику познания, подобно тому как, по словам Гегеля, «формальная дедукция — это дедукция формальных правил и законов умозаключения, но не есть само умозаключение» 47.
Отсюда вытекает очень важное следствие. Поскольку формальная система может быть наполнена любым содержанием, то всякое отождествление системности вообще с формальной системностью, а именно это происходит у основоположников так называемого системного движения А.А. Богданова и Л. фон Берталанфи, неизбежно ведет к системному релятивизму и своеобразному системному агностицизму, что находит одно из наиболее ярких своих проявлений в так называемом принципе толерантности, выдвинутом в свое время одним из апостолов современного позитивизма, Р. Карнапом. Согласно этому принципу, выбор «языка», с помощью которого описывается реальность, — дело произвола того, кто эту реальность описывает. Вопрос об отношении данного «языка» к реальности не может быть сформулирован на этом же самом «языке», а потому внутри данной системы правил, задающих данный «язык», он не имеет смысла. Сама реальность при этом неизбежно превращается из объективной реальности, существующей независимо от того «языка», на котором мы ее описываем, в некий «гносеологический постулат», который допускается только потому, что должны же мы что-то познавать.
Итак, есть система и система. Есть система формальная и есть система материальная, или содержательная. И в этом заключается один из кардинальнейших пунктов диалектико-материалистического учения о системах и системности. Всякая полная содержательная система всегда имеет своим основанием, своим основоположением ту или иную форму противоречия. И уйти от этого противоречия можно только ценой неполноты системы.
Что же представляют собой формальная и содержательная системность в их взаимоотношении с реальной наукой? Фихте считал, что только Наукоучение обосновывает свои собственные предпосылки, другие же науки этого делать не могут: их предпосылки обосновываются только в Наукоучении. Поэтому только в Наукоучении допустимо противоречие, в прочих же науках оно никак не допустимо. И именно поэтому только Наукоучение может быть органической системой, остальные же науки могут быть только формальными системами. Этот предрассудок отчасти перешел и к Гегелю, который считал естествознание, например, областью чисто рассудочного и эмпирического познания природы. Иными словами, никакая наука сама по себе не может быть вполне наукой, самые глубокие основания свои она получает в философии природы или, как Кант назвал эту область исследований, в «метафизических началах естествознания». Это метафизический привесок, от которого не смогла окончательно освободиться буржуазная классическая философия даже в лице самого последовательного критика всей прежней метафизики Гегеля.
Только диалектика представляет собой органическую систему, так считал Гегель. Но дело не в том, что он не признавал никаких проявлений органичности в области природы, а в том, что там, где они имеют место, там, считал Гегель, мы имеем дело с проявлениями «разума» в природе, и эмпирическому естествознанию с его рассудочным метафизическим методом там делать нечего, здесь в дело должна вступить логика разумного постижения — диалектика, а область применения диалектики к природным явлениям и должна составлять, по Гегелю, предмет философии природы. Только диалектическая философия придает всякой другой науке целостность и завершенность, но... за пределами самой этой науки. Вот гносеологические истоки и шеллинговской, и гегелевской натурфилософии.
В такой трактовке вопроса верно только то, что, как это было уже сказано, исторически дело обстояло именно таким образом, что диалектика как способ мышления как метод впервые была развила внутри философии, тогда как естествознание в целом пользовалось еще «метафизическим» методом, откуда он, как отмечал Энгельс, был перенесен Бэконом и Локком в философию 48. Это и создавало иллюзию того, что естествознанию присущ только этот способ мышления, а другой, диалектический, может прийти в него только вместе с философией. В этом и заключается историческое оправдание натурфилософии в ее шеллинговской и гегелевской форме. Но это оправдано только до того момента, пока в естествознании объективно не возникает запрос на диалектический способ мышления.
«К диалектическому пониманию природы, — писал Энгельс, — можно прийти, будучи вынужденным к этому накопляющимися фактами естествознания; но его можно легче достигнуть, если к диалектическому характеру этих фактов подойти с пониманием законов диалектического мышления» 49. Диалектическая логика дает метод для диалектического понимания природы — вот в чем истинное взаимоотношение диалектики и естествознания, и не только естествознания, но и всякой другой науки. И поэтому когда естествознание, как пишет Энгельс, «научится усваивать результаты, достигнутые развитием философии в течение двух с половиной тысячелетий, оно именно благодаря этому избавится, с одной стороны, от всякой особой, вне его и над ним стоящей натурфилософии, с другой — от своего собственного, унаследованного от английского эмпиризма, ограниченного метода мышления» 50.
Итак, диалектика в отличие от прежней метафизики и прежней натурфилософии дает не основоположения для систематического развития других наук, не основания, а метод теоретического мышления, ведущий к построению целостной и систематической картины действительности. Каждая наука сама должна найти свои собственные основания, она не может получить их готовыми, но при этом она по необходимости должна пользоваться диалектическим методом, потому что только диалектика дает метод для решения действительных противоречий, а основания всякой науки в своей сущности всегда противоречивы. Поэтому диалектика дает метод для построения органических систем, но она не решает одновременно все проблемы, связанные с построением любой органической системы.
Такова диалектика метода и системы. Диалектический метод не существует отдельно от системы диалектической логики, и его изложение, как отмечал еще Гегель, «в собственном смысле относится к логике или, вернее, есть сама логика. Ибо метод есть не что иное, как все сооружение в целом, воздвигнутое в его чистой с ущественности» 51.
Что касается формальной системности, то относительно нее необходимо сказать следующее. Поскольку всякая органическая система имеет своим основанием противоречие, то никакая системная реальность не может быть исчерпана в системе формальных определений.
1 Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю /Избранные философские произведения. Москва, 1956, т. 1, с. 510.
2 Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет, т.2. Москва, 1973, с. 92.
3 Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической логики. Алма-Ата, 1968, с. 9‑10.
4 Кант И. Сочинения, в 6-ти т. Москва, 1964, т. 3, с. 83.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2‑е изд., т. 25, ч. II, с. 384.
6 Там же, т. 3, с. 3.
7 См.: MEGA 1/5, S. 535.
8 Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. IV, с. 3.
9 См.: Рапопорт А. Математические аспекты абстрактного анализа систем /Исследования по общей теории систем. Москва, 1969, с. 83.
10 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 1, с. 7-8.
11 Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. IV, с. 2.
12 Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. Москва — Ленинград, 1936, с. 47‑48.
13 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Москва, 1972, т. 3, с. 306-307.
14 См.: Волгин Л.Н. Принцип согласованного оптимума. Москва, 1977.
15 См.: там же.
16 Ленин В.И. Полное собрание сочинений, т. 18, с. 145-146.
17 Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. VII, с. 25.
18 Эйнштейн А. Собрание научных трудов, в 4‑х т. Москва, 1967, т. IV, с. 500.
19 Карри X. Основания математической логики. Москва, 1969, с. 18.
20 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 46, ч. I, с. 229.
21 Ленин В.И. Полное собрание сочинений, т.29, с. 322.
22 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 1, с. 7.
23 Там же, т. 16, с. 131.
24 Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. VII, с. 218.
25 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 42, с. 94.
26 Там же, т. 42, с. 120-121.
27 Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. X, с. 396.
28 Там же, т. IX, с. 211.
29 См.: Мегрелидзе К. Основные проблемы социологии мышления. Тбилиси, 1973, с. 126.
30 Фихте И.Г. Избранные сочинения. Москва, 1916, т.1, с. 16.
31 Там же, с. 17-18.
32 Там же, с. 19.
33 Там же.
34 Там же, с. 20.
35 Там же.
36 Там же, с. 21.
37 Там же, с. 30-31.
38 Там же, с. 31 (прим.).
39 Там же.
40 Там же, с. 32.
41 Там же.
42 Там же.
43 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, с. 525.
44 Фихте И.Г. Избранные сочинения, т. 1, с. 34.
45 Кант И. Трактаты и письма. Москва, 1980.
46 Фихте И.Г. Избранные сочинения, т. 1, с. 34.
47 Гегель Г.В.Ф. Наука логики, т. 1, с. 106.
48 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, с. 21.
49 Там же, с. 44.
50 Там же.
51 Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. IV, с. 25.